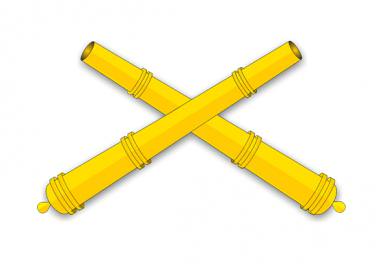Давидович Вилен (Ефим) Михайлович (Аронович)
орден Александра Невского, орден Отечественной войны 1-й степени, орден Отечественной войны 2-й степени, медаль "За Боевые Заслуги" и др. медалями.
красноармеец
младший лейтенант
лейтенант
капитан
майор
подполковник
полковник
стрелок
командир взвода 636-го стрелкового полка
командир 3-й стрелковой роты 273-го гвардейского стрелкового Кишеневского полка 89-й гвардейской стрелковой Белгородско-Харьковской Краснознаменной дивизии
командир батальона
слушатель Военной Академии им. М.В.Фрунзе 1949-1952
преподаватель на курсах усовершенствования офицеров
командир механизированного батальона
заместитель начальника штаба танковой дивизии
офицер штаба округа
командир полка
Автобиография.
Родился 2 мая 1924 года в Минске. Детские годы мои прошли в одном из переулков района Комаровка, в переулке Казакова. Позднее, когда я читал Шолом-Алейхема, мне казалось, что, описывая Касриловку, он имел в виду наш переулок.
Я хорошо помню этот переулок моего детства с его двумя рядами небольших деревянных домишек, немощённый, с его оставшимися до сих пор мне дорогими людьми. В первом доме переулка жил интеллигентный старик писарь Мумвес, в последнем - огромный род Софы Калапучихи, жены слепого, с больными ногами Симон-Лейба - очень набожного и честного старика. Это был переулок сапожников, портных, фурманов, кузнецов, продавцов, парикмахеров. Жил среди них и один коммунист - столяр Лейзер Роговин, как и почти все обитатели переулка Казакова - малограмотный человек. Его два взрослых сына служили в НКВД. Это по их доносу сослали в Сибирь семью мясника Файвы Рудермана и ещё несколько наших соседей, и тем самым спасли им жизнь - к началу войны эти люди оказались вне досягаемости немецких фашистов. Это сыновья Лейзера Роговина в начале 30-х годов пересажали в тюрьму почти всех взрослых мужчин переулка и требовали от них отдать золото государству. Среди этих арестантов был и мой отец; был даже слепой, кривоногий старый старик Симон-Лейб Калапуч - глава огромного, почти всегда голодного рода. Главной кормилицей этой семьи была Софа Калапучиха, торговавшая на конском базаре, рядом с нашим переулком, холодной водой по 1 копейке за стакан летом и горячим чаем - зимой. Она ставила на базарный стол самовар огромных размеров, а под юбку, чтобы не замёрзнуть, - "файер-топ" (огненный горшок).
Отец мой Арон был солдатом-ветераном. Военная служба его продолжалась 10 лет, с 1913 по 1923 год. Участвовал в двух войнах: Первой мировой и гражданской. В годы мировой войны он достиг за храбрость самых высоких для еврея в царской армии отличий - был награждён Георгиевским крестом и произведён в ефрейторы. К концу гражданской войны он был тяжело ранен в ногу, лечился в госпитале в Моршанске Тамбовской губернии и вернулся домой в 1923 году на костылях. Он, как и мой дедушка, был фурманом. Несмотря на ранение, он был необычайно сильным человеком, поднимал и грузил огромные тяжести. Чтобы прокормить семью, он очень много работал. Он постоянно был в работе - днём возил различные грузы, ночью - за очень низкую плату работал сторожем в типографии. Там он и спал на бумагах. Эта ночная работа нужна была ему не столько для денег, сколько для "легальности" - советская власть не терпела человека, не закреплённого официально за государственным предприятием. Моя мать Шейна-Бася была умной, но совершенно неграмотной женщиной. Она управляла умелой рукой семейным кораблём, занималась воспитанием четверых сыновей. Когда требовалось расписаться, она ставила крестики. Позднее, начав учиться в школе, я научил её двум русским буквам: "Д" и "А", и она ставила их вместо крестиков.
Вся жизнь отца и матери была посвящена детям. Они, как и большинство евреев того времени, стремились дать детям образование, вывести их в люди и дождаться от них радости. К глубокому моему сожалению, эти честные простые люди так и не дожили до исполнения своей светлой мечты... Родным языком в нашем доме был идиш. Всех нас называли нашими настоящими еврейскими именами. Меня звали Файве, братьев младших: Моше-Хаим, Авром-Иче, Лейзер. Я очень благодарен своим родителям за это - много лет спустя, в пятидесятилетнем возрасте я с лёгкостью овладел грамотой на идиш; мне значительно легче, чем многим моим сверстникам, изучить иврит.
В большинстве домов моих товарищей с детьми говорили по-русски, хотя их родители очень плохо знали этот язык. Русскому языку они обучить своих детей, естественно, не могли. Добились они, правда, одного прочного "успеха" - большинство моих сверстников совершенно не знает идиш.
Когда я начинал учиться, в Минске наряду с русскими, белорусскими, польскими школами были и еврейские школы. К сожалению, в еврейскую школу я не попал. Мои родители считали, что по содержанию все эти школы равноценны, и в этом были, пожалуй, правы. В еврейских школах обучали по тем же программам, что и в других. Специальных еврейских предметов не преподавали. А в нееврейских школах изучали произведения Шолом-Алейхема и некоторых советских еврейских поэтов и писателей.
При определении меня, а позднее и моих братьев, в школу мама исходила из "географического" принципа: какая школа ближе, чтобы, "не дай Бог, грузовик не переехал её сына" по пути в школу. Поэтому я, Моше-Хаим и Авром-Иче попали в белорусскую, а Лейзер, самый младший - так как мы к этому времени переехали из переулка Казакова на Широкую улицу (не такая уж она была широкая!) - в русскую школу.
Учился я в школе хорошо, с большим увлечением. Очень рано начал читать. Чтение стало моей физиологической потребностью в течение всей жизни. Даже на фронте, когда позволяла обстановка, даже в госпитале, находясь в тяжёлом состоянии с инфарктом, даже в тюремной камере КГБ - я всегда читал.
У нас в Минске была многочисленная родня - как по линии матери, так и по линии отца, так как они и их предки - коренные минчане. Все они были ремесленники и фурманы - малограмотные или вовсе неграмотные люди. А я, когда учился в третьем - четвёртом классе, стал конкурентом писаря Мумвеса. Мумвес писал для обитателей нашего переулка письма их родным в Америку или в Красную Армию, различные прошения и другие бумаги. Жители переулка и все наши родные относились к нему с большим почтением как к "учёному человеку". За каждую бумагу Мумвес брал гонорар - 1 рубль (в то время это были очень небольшие деньги). В возрасте 10 -11 лет я стал писать для родных и знакомых нашей семьи письма, прошения и т.п. По отзывам знающих людей, я это делал мастерски. Гонораром служила похвала, высказанная матери: что у неё необычайно одарённый сын, вырастет и может стать большим учёным- может быть, даст Бог, даже станет писарем - таким, как сам Мумвес.
В годы моего детства и ранней юности я антисемитизма не чувствовал. Это был "золотой век" советского еврейства. В нашем еврейском переулке жили также русские и польские мальчики, с которыми я дружил. В нашей белорусской школе директором была Рива Абрамовна Каплан, завучем - Софья Рафаиловна Ценциппер, большинство учителей были евреи. Так как в Минске в то время преобладало еврейское население, то и мои товарищи по школе в большинстве были евреи. Однако были и неевреи. Даже малейшего признака национального антагонизма или недоброжелательства не чувствовалось.
Помню, как в начальных классах нам учительница объясняла, что такое дружба народов. Она говорила: в классе у нас дети разных национальностей, вот такие-то - евреи (называла по фамилиям), такие-то - русские, такие-то - поляки, такие-то - белорусы. А вот такие-то - татары. Все вы одинаковые, между вами нет никакой разницы. Вы дружите, вы любите и уважаете друг друга - вот это и есть дружба народов.
К сожалению, об этом могут вспомнить лишь люди старше 50-ти лет. Сейчас этот вопрос в школах объясняют по-другому. Говорят, что героические вьетнамцы борются за свободу, негры Анголы в большой беде, и мы пришли им на помощь. Славные палестинцы ведут героическую борьбу против израильских агрессоров. Сирийцы готовятся к освобождению захваченных сионистами земель, и мы им даём оружие, обучаем их армии - вот это дружба народов. Главный враг дружбы народов - евреи-сионисты. Далее учительница зачитывает детям цитаты из книги Владимира Бегуна о том, что еврейские погромы - прогрессивное явление, что евреи оплели своей грязной паутиной весь мир, стремятся задушить всё прогрессивное и установить своё мировое господство. В заключение такая учительница призывает к бдительности, строго глядя на своих немногочисленных еврейских учеников и учениц.
В результате такого воспитания еврейские дети чувствуют себя отверженными, зачумленными, глубоко несчастными. Многие из них негодуют на родителей, что те - евреи. Сын моей подруги детства Раи Дукарской - Толя, будучи в пионерском лагере, записался русским, отчество вместо "Исаакович" записал "Владимирович" и просил маму (а у Раи броская еврейская внешность) не приезжать к нему в лагерь. Дочь моего товарища по службе, полковника Льва Униговского, Мариночка, будучи в 4-ом классе, однажды пришла из школы очень мрачная. Отец стал выяснять, что случилось, что с ней. Вместо ответа Мариночка строго спросила отца: "Скажи, папа, я еврейка или нет?" - Он ответил: "Да, ты еврейка". Мариночка спросила: "Почему я еврейка?" - Лев Униговский ей объяснил, что он еврей, мать Мариночки - еврейка, и потому и Марина - еврейка. Девочка с дикими воплями "не хочу быть еврейкой!" забилась в истерике. Для приведения её в чувство вызвали скорую помощь.
Под влиянием подобного разъяснения детям современных принципов "дружбы народов" был убит и Гриша Туник - 16- летний школьник, сын партизана. Его убили одноклассники. Они сидели в засаде, ждали другого еврейского мальчика, который их якобы чем-то обидел. Не дождались того мальчика, увидели Гришу и убили его. На вопрос судьи, имели ли они - убийцы - что-либо против Гриши, те ответили отрицательно. "Почему же вы его в таком случае убили?" - спросил судья. - "Ведь он тоже еврей", - заявили мальчики-убийцы. Таких случаев можно привести очень много. Но все они происходили уже не в "золотой век", не в годы моего детства.
В связи с надвигающейся войной правительство в 1939 году приняло новый закон о всеобщей воинской повинности, сыгравший в моей жизни немаловажную роль. Согласно этому закону, окончившие 10 классов средней школы сразу призывались в возрасте 18-ти лет в армию, отсрочка для учёбы в институте отменялась. Несколько моих товарищей и я решили перейти на учёбу в техникум - с тем, чтобы после окончания военной службы не оказаться без специальности и не быть вынужденными для продолжения учёбы снова сесть на шею своих небогатых и замученных непосильным трудом родителей. Меня приняли сразу на второй курс политехникума. В те годы студентам стипендии не выплачивали, а наоборот, за учёбу надо было платить. После первого же семестра я стал отличником, и мне выплачивали стипендию как отличнику. Таков был тогда порядок. Это была огромная радость для родителей. Они радовались не столько деньгам, сколько чести - соседи платили за учёбу своих детей, а их старший сын получал стипендию. Начали сбываться предсказания наших родственников и знакомых, которым я писал в раннем детстве заявления и письма, что я буду "большим человеком и, быть может, даже таким, как сам писарь Мумвес".
За 10 дней до начала войны я и несколько моих товарищей были посланы на практику в район Бреста, почти у самой границы с немецким вермахтом. Таким образом, к 22 июня 1941 года я оказался вне Минска и уже больше никогда не увидел своих родителей, братьев, почти всех родственников, погибших в минском гетто. Немцы захватили Минск на пятый день войны, 27 июня, и очень мало кому удалось бежать на восток, "эвакуироваться", как это тогда называлось. Из моих родных ни один человек не эвакуировался. В живых после войны осталось всего несколько человек. Мой старший двоюродный брат Генех Давидович, которому к началу войны было 35 лет, на второй день был призван в Красную Армию и рядовым солдатом прошёл боевой путь от Гродно до Москвы и от Москвы до Будапешта, был несколько раз ранен, но остался жив. Умер он в возрасте 65 лет в 1971 г. в Минске. Его жена Малка, которой посчастливилось уйти в партизанский отряд, тоже осталась жива и сейчас с дочерьми живёт в Израиле.
В живых также остались ещё два двоюродных брата - Лазарь и Миша Давидовичи, которые в разные годы уехали из Советского Союза. Все остальные, целый род был замучен фашистами в гетто.
В ту деревню, где я был на практике под Брестом, немцы пришли через шесть часов после начала войны. Их моторизованные колонны следовали почти парадным маршем по шоссе на Минск. Главный инженер, руководитель нашей группы, объявил нам, что мы все свободны и можем распорядиться самостоятельно своей судьбой. Кроме меня, в этой группе был ещё один еврей - Лёня Словин. Главный инженер посоветовал нам пересидеть несколько дней в лесу - считал, что это местный, частичный успех немцев, и через несколько дней конница Будённого проследует через нашу деревню в Берлин. Тогда так считали почти все советские люди, убаюканные лживой сталинской пропагандой. Мы сразу почувствовали отчуждение своих товарищей, студентов-неевреев. В составе нашей группы был секретарь комсомольской организации техникума Рабус, очень активный молодой человек. Он любил часто выступать с докладами. Даже в частных беседах он непрерывно цитировал товарища Сталина и товарища Махлина - секретаря горкома комсомола. Был большим патриотом. Когда пришли немцы, этот ортодокс заявил: "Нам, братцы, бояться нечего. От советской власти мы ничего хорошего не видели. И, кроме того, мы - не евреи". Всё-таки политграмота не совсем прошла мимо него.
Хотя нам было всего лишь по 17 лет, мы поняли, что конница Будённого не придёт сюда через несколько дней. Но не были мы и пророками. Мы считали, что немцы дойдут до старой границы (она проходила в 30 км западнее Минска) и там будут остановлены на долговременных укреплениях, создававшихся годами.
Только в 1956 году я узнал, что Сталин, который не верил никому, поверил договору с Гитлером и приказал демонтировать эти укрепления - они были превращены в овощехранилища. Но мы в первые дни войны в эти укрепления верили и решили просёлочными дорогами, обходя немцев, пробраться в Минск. Мы с Лёней Словиным двинулись на юг, дошли до северной Украины, пришли в город Луцк. Луцк ещё удерживала Красная Армия, но должна была сдать его с часу на час. Об этом нам сказал один командир.
В одном из последних товарных поездов мы поехали на восток. Ехали несколько дней через всю Украину, ни в одном городе нам не разрешили выйти из поезда. Так мы доехали до станции Готня, недалеко от Курска. Это в первые дни войны был ещё глубочайший тыл. Через эту станцию продолжалось регулярное пассажирское сообщение по довоенному графику. Там мы купили билеты и пассажирским поездом приехали в г.Оршу, осуществляя свой план добраться домой, в Минск.
В Оршу мы приехали 29 июня, через два дня после падения Минска. Но об этом никто не знал. Сводки сообщали о боях "на направлениях...", о подвигах отдельных солдат и командиров, и узнать из них линию фронта было невозможно. В сторону Минска шли только воинские зшелоны, и один лейтенант согласился взять нас с собой. Но в это время среди многочисленных беженцев из Минска мы встретили отца Лёни Словина, который нам сообщил, что в Минске уже два дня немцы. Неделю мы прожили в Орше и когда немцы подошли к городу, уехали на восток.
13 июля 1941 г. небольшая группа минчан прибыла в г.Сызрань на Волге. В их числе был и я. Там мы и остались. Каждый устроился на работу, кое-как разместились по уголкам у местных жителей. В нашей группе были старики и мальчишки, мужчины и женщины. Всех объединяло общее горе, у всех семьи остались в Минске в руках у фашистских палачей. До войны никто друг друга не знал. Среди нас был 50-летний скорняк Берл Брейтман, 35-летняя Берта Сонкина с семилетней дочкой Фирой, пожилой портной Эля Ботвинник, Лёня Словин с отцом, я - 17-летний паренёк и другие минчане. Там я впервые почувствовал национальную неприязнь со стороны коренных жителей к нам, пришельцам, там я впервые ощутил и еврейскую солидарность и взаимопомощь. Мы все помогали друг другу, кто, чем мог.
Каждый вечер, каждую свободную минуту мы старались быть вместе. Эти осколки, оставшиеся от больших семей, очень много дали мне для познания жизни, для познания национального характера моего народа. Общаясь с ними до призыва в армию в 1942 году, я усовершенствовал свою практику в разговорном идиш, кое-что познал из еврейской истории и традиций.
Со всеми этими людьми я продолжаю на протяжении 35 лет поддерживать тёплую дружбу. Кое-кто из них впоследствии нашёл некоторых своих близких, кое-кто после войны обзавёлся новой семьёй.
Самым несчастным оказался Берл Брейтман. У него в гетто погибли жена и трое детей, старший сын Яша погиб на фронте при штурме Варшавы. В живых осталась младшая дочь Алла, эвакуированная из Минска с пионерским лагерем. Потом она отыскалась в детдоме. Жизнь Аллы сложилась трагически. Она тяжело больна, диабет привёл к необходимости ампутировать правую ногу до колена, она оглохла и ослепла. В таком состоянии она живёт уже многие годы. 84-летний Берл Брейтман ухаживает за своей беспомощной больной дочерью. А сам он тоже еле дышит... Горя людского, горя еврейского очень много.
В 1942 году началась моя 27-летняя военная служба. После призыва меня отправили в город Куйбышев в училище, где готовили младших офицеров для фронта. Потребность в них была огромная, и училища того времени работали ускоренно. Я учился 9 месяцев. Были и такие школы младших лейтенантов, которые готовили выпуски за 6 месяцев и даже за 3 месяца. Занимались мы по 12 часов в сутки - как правило, в поле и на стрельбищах. Классными были только политзанятия два раза в неделю по два часа. На этих занятиях мы отдыхали и в тепле дремали. Кроме того, два часа полагалось самоподготовки. Служба в училище была тяжёлой. Выходных не было. В выходные дни мы отправлялись строем за Волгу в лес, за 15-20 км от города, там каждый курсант взваливал на плечо полутораметровое полено дров и нёс в училище. Дрова эти использовались для приготовления пищи, а казармы даже в самые лютые морозы зимы 1942 года не отапливали. Но холодно не было. Нас было так много, что помещение согревалось нашим дыханием.
Учёба требовала большой выносливости, так как состояла почти из одних тяжёлых физических упражнений разного рода, необходимых на войне. Все курсанты были 18-летние юноши со средним образованием. С трудностями в училище я справлялся лучше многих моих товарищей-свёрстников. Помогало мне в этом унаследованное от отца крепкое здоровье, мои занятия спортом в школьные годы и страстное стремление не дать повода для насмешек надо мной как евреем, что тогда уже становилось модным. Учился я хорошо.
Воспоминания об этих девяти месяцах у меня на всю жизнь остались неприятные: я почти всегда был голоден, почти всегда - на морозе, почти круглые сутки под зорким контролем сержантов - Дутбаева, Кравчука и других - людей малокультурных, тупых и мелочных. Это были классические унтер-офицеры, так хорошо описанные А.И.Куприным.
В мае 1943 года мне присвоили первичное офицерское звание младшего лейтенанта и отправили на фронт командиром стрелкового взвода. Фронтовая служба моя началась в прославленной гвардейской дивизии, которая в то время вела бои на Курской дуге. Я очень быстро подружился с товарищами-офицерами, заслужил уважение своих солдат, каждый из которых по возрасту годился мне в отцы. Я помню свой первый бой, первую атаку. Я командовал своими солдатами строго по Боевому уставу пехоты 1942 года (БУП), они чётко выполняли команды, и мне казалось, что мы на полевых занятиях в училище. Никакого страха я не испытывал: я был уверен, что меня не убьют. Эта уверенность оставалась у меня до конца войны.
Хочется несколько слов сказать об атаке. Это очень трудное дело. Солдат знает, что он идёт почти на верную смерть, что в лучшем случае его ранят. Он должен подавить естественный для любого человека инстинкт самосохранения, заставить себя идти в огонь. Командиру бывает зачастую легче идти в атаку - легче не потому, что он в большей безопасности, чем солдат. Вся энергия командира, все его устремления, как правило, сосредоточены на том, чтобы поднять своих солдат в атаку, повести их за собой, выполнить поставленную задачу и сохранить как можно больше людей в живых. Дело это очень не лёгкое. Поэтому думать о личной безопасности командиру - некогда. Я говорю о настоящем командире, а не о трусливом хлюпике. Попадались и такие. К счастью, я ни одного такого еврея не встречал на войне.
Атака во время наступательных операций - это была моя повседневная работа, моя обязанность. А в обороне - сидеть в 100 - 150 метрах от немцев и отражать атаки их пехоты и танков. Если уничтожить танки нам не удавалось, мы от них отсекали пехоту и пропускали вражеские танки над собой. Их уничтожением занималась уже находившаяся в глубине артиллерия. Я остановился на кратком описании атаки и действий стрелковых подразделений в обороне, так как этим я и занимался до самого конца войны. Это был очень тяжёлый и опасный труд, и никаких романтических эпизодов я рассказывать не собираюсь, хотя их было и немало.
Дело не в них, а именно в этом повседневном воинском труде пехотинца. Атака - это дождь, и атакующий "сухим" остаётся очень редко: или его убивают, или ранят.
Я был ранен пять раз. Первое тяжёлое ранение я получил в ходе контрнаступления на Белгородском направлении 10 августа 1943 года. Я был ранен в левую ногу осколками мины. Один из них попал в мягкие ткани, другой - в кость. В медсанбате дивизии меня оперировали в полевых условиях. Раненых поступало очень много, и врачи были вынуждены работать быстро, конвейерным методом. Естественно, что операции проводились без предварительного рентгена. Я лежал на столе, и врач, ища осколки, всё больше и больше резал ногу. Операция проводилась без наркоза. Боль была страшная. Моими героями в то время были Артур из романа Войнич "Овод" и Павел Корчагин из романа Николая Островского. Я считал недостойным воина и мужчины стонать или кричать, все усилия направлял на преодоление боли. Врач минут сорок резал мою ногу, пока нашёл осколки. Я ни разу не застонал. Когда ногу бинтовали после операции, врач сказал своим ассистентам и сёстрам: "Смотрите, молодой паренёк, а ни разу даже не застонал, сумел преодолеть боль. А вот тот еврей, здоровый молодой мужчина, кричал, хотя рана у него пустяковая". У меня не было уже сил сказать им, что и я тоже еврей (внешность у меня не характерная).
Лечился я в городе Мичуринске Тамбовской области (отец за 20 лет до меня лежал в военном госпитале в Моршанске той же Тамбовской губернии).
Рана моя долго не заживала. В этом госпитале я подружился со старшей медсестрой Марией, ставшей моей невестой. После окончания войны, в ноябре 1945 года мы поженились и живём уже более тридцати лет в большой дружбе. Все эти годы она была всегда и в радости, и в беде рядом со мной. Она - мой единомышленник в борьбе против чёрных сил мракобесия и антисемитизма. Маша - опытная, высококвалифицированная медсестра - не раз спасала мне жизнь во время сердечных приступов.
Не долечившись до конца, с заклеенной пластырем раной на ноге, я добился выписки из госпиталя и уехал на фронт. Обычно офицеров из тыловых госпиталей выписывали после выздоровления и направляли в резервные полки, где они ждали назначения на фронт по 2-3 месяца. Я обошёл это правило, так как считал, что в войне с фашистами мы, евреи, должны быть впереди. Кроме того, как и все последующие годы, я стремился своим личным поведением опровергнуть лживые выдумки о евреях, отсиживающихся в тылу, в Ташкенте, на тёплых и доходных местах.
В последующие годы я воевал на Украине, в Польше, которую прошёл от восточной до западной границы, в Германии - и в день Победы, 9 мая 1945 года участвовал в штурме столицы Чехословакии Праги. Был командиром стрелкового взвода, роты, заместителем командира батальона, то есть, как у нас это называли, "чернорабочим войны". В день Победы я был 21-летним капитаном, награждённым тремя орденами и многими медалями.
Победа была большим радостным событием для всех, но на душе лежала большая тяжесть. В каждом освобождённом городе и местечке был свой малый или большой Бабий Яр. Я прошёл всю Украину, всю Польшу - места, где прежде была еврейская жизнь, - и встретил только двоих оставшихся в живых евреев. Мальчика лет семи мы подобрали на дороге в Волыни. Это был маленький скелет, обтянутый синей кожей, с мёртвым взором в глазах, который изредка сменялся выражением испуга. Жизнь чудом теплилась в этом тщедушном т?льце. Он почти ничего не отвечал на вопросы. Но когда я с ним заговорил на идиш, глаза его потеплели, и он рассказал мне страшную, но очень обыкновенную для тех времён историю гибели своей семьи.
Вторым я встретил много времени спустя 45-летнего, опрятно одетого еврея из Львова. Встретил я его недалеко от этого города. Он мне рассказал, что вся семья его погибла во львовском гетто, а его самого за хорошую оплату прятал поляк в деревне восточнее Львова.
Больше я не встретил ни одного уцелевшего еврея до самого конца войны. Сведений я не имел, но был уверен, что общая судьба не миновала и моих близких в Минске.
"Золотой век" советского еврейства закончился с началом войны. Это моё личное мнение. Некоторые люди постарше считают, что это произошло гораздо раньше и особенно чётко определилось, когда Сталин и Гитлер стали "братьями навек" - с 21-го августа 1939 года, дня заключения советско-германского пакта. Но я пишу не исследование, а излагаю свои личные впечатления. Пишу о том, что я сам видел и что сам чувствовал. Я лично почувствовал антисемитизм с началом войны, в июне 1941 года. Выражался он, прежде всего в том, что ни среди населения, ни в Красной Армии не велось абсолютно никакой контрпропаганды против гитлеровского звериного антисемитизма. Исключение составляли лишь статьи знаменитых в то время писателей-евреев Ильи Эренбурга, Василия Гроссмана и некоторых других.
Впоследствии Эренбург писал, как сталинский сатрап А.С. Щербаков, начальник главного политуправления армии и секретарь ЦК, запрещал печатать его статьи с упоминанием гитлеровских зверств против евреев и героизма воинов-евреев на фронте.
Уже тогда евреи не допускались на самые высокие командные посты, хотя ещё было немало уцелевших от сталинской резни талантливых военачальников. Единственным исключением был, пожалуй, генерал Я.Г. Крейзер - с самых первых дней войны, ещё со времени боёв под Борисовом показавший незаурядный талант полководца. Он почти всю войну командовал армией. Правда, на более низких ступенях командной лестницы было немало евреев: командиры дивизий, полков и батальонов. Среди них мне был знаком лично командир прославленной стрелковой дивизии Герой Советского Союза генерал Б. Д. Лев. Много евреев было в "мозговом тресте" войны - в оперативных отделах и на должностях начальников штабов. Начальником оперативного отдела штаба дивизии, в которой я воевал, был майор Грузенберг, сочетавший глубокий ум аналитика, высокую военную подготовленность и личную храбрость. На такой же должности воевал и мой друг по академии Лев Униговский (тот самый, дочь которого уже в наше время впала в истерику, удостоверившись, что она - еврейка).
Начальником штаба нашей дивизии был полковник Зильпер, человек высокой военной культуры. Позднее его сменил полковник Бревдо - тоже еврей. Начальником штаба нашей армии был генерал-лейтенант Самуил Рогачевский. Примерно так же обстояло дело и в других дивизиях и армиях. Об этом впоследствии мне рассказывали товарищи, об этом я читал при изучении военно-исторических документов. На переднем крае было много младших офицеров и солдат-евреев. И очень мало было евреев-политработников: выполнялась директива черносотенного верховного политического шефа армии - А.С.Щербакова.
Не могу не отметить, что евреи на переднем крае не старались подчёркивать своё еврейство. Это объяснялось как боязнью немецкого плена, так и опасением получить пулю в спину от начавших чувствовать уже тогда полную безнаказанность антисемитов. Был у меня одно время начальником старший лейтенант Лев Злотников, бывший бухгалтер из еврейского колхоза в Крыму. Он был очень храбрым и умным человеком. Многие его считали белорусом (родился он в белорусском местечке под Могилёвом). Мне он под большим секретом сообщил, что он еврей, хотя я и так определил, кто он. Таких офицеров и солдат было немало. Я их не осуждаю. Тем более что свой грех Лев Злотников искупил мученической и в то же время героической смертью.
Он вёл в атаку своё подразделение при штурме Золочева. Я был рядом с ним. Немцы вели по нам шквальный ружейно-пулемётный и миномётный огонь. Мы стремились выйти из зоны огня броском вперёд, на врага. Во время атаки мина из батальонного миномёта попала в Злотникова. От него остался лишь пистолет и несколько клочков гимнастёрки, всё остальное разнесло без следа. К. Симонов в романе о войне "Солдатами не рождаются", в котором он, на мой взгляд, правдиво и талантливо описал события (писался роман в период хрущёвской оттепели), лаконично, но верно подчеркнул это явление. В романе есть очень храбрый и человечный полковой комиссар Бережной, которому Симонов уделяет немало страниц. Среди прочего, есть там и такая фраза: "Между прочим, Бережной по документам был еврей, но в дивизии об этом почти никто не знал".
Помню, через несколько дней после победы к нам в полк - стояли мы тогда в лесу возле Праги - приехал буфет военторга. Привезли вино, водку, папиросы, колбасу и прочие деликатесы. Возле машины военторга как-то стихийно собрались отдельной группой офицеры-евреи нашего полка: командир батальона майор Саша Койфман, зам. командира батальона капитан Ноях Бендерский, командир миномётного взвода лейтенант Исаак Клейман, командиры стрелковых взводов лейтенанты Крымский и Куперман; я и другие, всего человек 20-25. Во время боёв мы редко видели друг друга: каждый был на своём участке. Нас как-то стихийно потянуло друг к другу. Мы забыли о буфете и оживлённо беседовали. К нам подошёл русский офицер - начпрод полка капитан Мурашев, бывший до войны секретарём одного из старых обкомов комсомола. Он нас осмотрел и сказал: "Смотрите-ка, сколько вас! Стало тихо - и вы появились. Что-то я вас не видел во время боёв". Ноях Бендерский ему ответил, что во время боёв он и не мог нас видеть - мы были на передовой, а он пил спирт в полковом тылу и закусывал ворованным салом. Этот разговор может показаться неправдоподобным, но так это было.
Я отнюдь не хочу этим сказать, что все евреи были на передовой, а русские сидели в тылу. Конечно, подавляющее большинство солдат и командиров на переднем крае были русские. Это вполне естественно. Были и представители почти всех других советских народов. Но антисемитизмом были заражены почему-то именно те, кто отсиживался в армейских тылах или вовсе не был на фронте. Это они были самыми ярыми распространителями легенды о том, что евреев на войне не было, что евреи защищали Ташкент. С такими я и в последующие годы встречался всё время. Это был мой коллега по академии Иван Челышев, просидевший всю войну в тыловой части во Владивостоке; это был мой сослуживец по штабу округа Кузьма Черняк, всю войну выслуживавшийся и подхалимничавший перед начальством в Забайкалье, чтобы его не послали на фронт; были и другие.
Подавляющее большинство моих русских фронтовых товарищей на переднем крае не было заражено ядом антисемитизма. Я с душевной теплотой всегда буду вспоминать Вадима Гурченко, Ивана Лелеко, Ивана Вербняка, Сергея Дехтярёва и многих других. Особенно мне был духовно близок лейтенант Володя Шахтарин из города Горького. Мы были настоящими друзьями, нам всегда было интересно друг с другом. Мы командовали соседними взводами в одной роте. Во время атаки мы всегда старались быть рядом. Володя очень любил поэзию. Часто даже во время атаки он декламировал мне стихи. В последнюю минуту его жизни мы тоже были вместе. Мы шли в атаку, Володя читал вслух Есенина, на середине строфы его сразила немецкая пуля. Он умер через несколько минут у меня на руках...
Сегодня я не поручусь, что все мои благородные товарищи времён войны сумели устоять под бешеным напором антиеврейской пропаганды.
В ноябре 1945 года мне удалось впервые после войны попасть в Минск, и мне стала достоверно известна трагедия моей семьи - крупица в огромной катастрофе евреев Европы.
Я решил остаться в армии и стать кадровым офицером. Первые послевоенные годы я служил на севере. Эти годы совпали с первой большой антисемитской кампанией: борьбой против "безродных космополитов", убийством Соломона Михоэлса, введением негласных процентных норм и чисткой аппарата от евреев. Вместе с тем, это был период большой радости для меня и моих товарищей: 1947-1948 годы - годы создания и провозглашения еврейского национального государства Израиль. В те годы у нас даже мысли не появлялось, что это государство имеет прямое отношение к нам, что мы когда-нибудь сможем жить в этой стране. Это были радость и счастье, не связанные ни с какими личными практическими расчётами. Мои близкие друзья и я, если бы это тогда было возможно, с большим энтузиазмом поехали бы добровольцами на войну против арабских агрессоров. Но хочу ещё раз подчеркнуть, что мысли об окончательном переезде в еврейское государство у нас тогда не возникали.
В части, где я тогда служил, сложился дружеский кружок из пяти молодых капитанов-евреев. Самому старшему их нас - Яше Окуре из Киева - было тогда 27 лет, самому младшему - мне - 23 года. В нашу компанию входили также Ноях Бендерский из Бердичева, Яша Шварцман из Одессы и Макс Симкин из белорусского местечка Корма.
Дружили и наши жёны, придававшие интернациональный колорит нашему кружку. Моя жена - русская, у Окуры - армянка, у Шварцмана - украинка, у Бендерского и Симкина - еврейки. Мы собирались вместе по праздникам, выходным дням. Веселились, пели песни.
Однажды в 1947 году на день Советской Армии мы собрались все у Яши Шварцмана, который снимал комнату у русской женщины. Это было в городе Череповце. Ноях Бендерский хорошо играл на гитаре и пел еврейские песни. Шутки ради он перед каждой песней объявлял: пою английскую песню "Мехатэйнэстэ", итальянскую "Варничкес" и т.д.
В этот вечер он пел очень много. Присутствовавшая хозяйка была потрясена знанием такого большого количества иностранных языков у яшиных друзей.
Вдохновлённый кампанией против "безродных космополитов", заместитель командира по политчасти Костерной-Марков решил отличиться: нашу безобидную компанию фронтовых друзей представить в виде подрывной организации. Это был 1948 год. Он написал донос в особый отдел дивизии. К нашему счастью, этот отдел возглавлял тогда подполковник Дизик - один из последних евреев в этом ведомстве (вскоре и он был изгнан оттуда). Дизик не дал хода этому грязному доносу.
Вскоре я уехал в академию, а моих друзей-капитанов рассеяли по разным гарнизонам.
Я поступал в Академию им. Фрунзе - старейшую, прославленную командно-штабную академию Советской Армии. Был 1949 год, год "потока приветствий и подарков отцу народов" в честь его 70-летия, год накала антисемитизма в стране. Процентные нормы соблюдались строго. Попасть в академию еврею было почти равнозначно преодолению верблюдом игольного ушка. Но я его преодолел. Из 500 принятых офицеров нас было четыре еврея. Думаю, что приняли меня потому, что по числу набранных баллов я был в первом десятке из нескольких тысяч абитуриентов; немалое влияние оказали мои многочисленные боевые награды и нашивки за ранения, а также то, что я был самый молодой из поступавших - 25 лет.
Окончил я академию с отличием в ноябре 1952 года. В соответствии с приказом Сталина, окончившие с отличием имели право выбирать место службы и должность, пользовались ещё целым рядом привилегий. Но это был период наивысшего накала антисемитизма в стране - уже были арестованы кремлёвские врачи-евреи, готовилась акция по "окончательному решению еврейского вопроса" в Советском Союзе. Я об этом тогда ещё ничего не знал, но обстановка была зловещей.
Военно-научный отдел академии, который в то время возглавлял генерал Пётр Григоренко (впоследствии - известный борец за права человека), рекомендовал меня, как показавшего во время учёбы большие способности к военно-научной работе, зачислить в адъюнктуру. Я был включён в кандидатские списки, но несколько позже без объяснения причин вычеркнут из них.
Однако даже в то зловещее время местное военное начальство не решилось нарушить приказ Сталина о привилегиях окончившим с отличием, и я - единственный из четырёх евреев-выпускников - был назначен на службу в Белорусский военный округ преподавателем на Курсы усовершенствования офицеров. Остальные трое, и в их числе мой друг Лев Униговский, никаких назначений не получили, сидели в резерве. Только после мартовского чуда 1953 года и реабилитации "врачей-убийц в белых халатах" эти три еврея получили назначения в войска.
Четыре года я работал преподавателем на Курсах усовершенствования офицеров. Эта работа мне полюбилась, и я чувствовал полное удовлетворение. Мои бывшие слушатели-офицеры до сих пор, через 20 лет относятся ко мне с большим уважением и вниманием.
Вместе с тем, это было очень тяжёлое время для советских евреев и для меня в том числе. Газеты ежедневно публиковали антиеврейские фельетоны, очищался от евреев государственный и партийный аппарат, заводилось множество уголовных дел, где основными обвиняемыми были евреи. В армии - как, по-видимому, и в других местах, - шло разоблачение евреев, "незаконно присвоивших себе" русские имена. Помню приказ о моём сослуживце майоре Хайкине. В приказе констатировалось, что Хайкин совершил подлог, присвоив себе имя Евгений Исаакович, в то время как по архивам его родного местечка установлено, что его зовут Зелик Исаакович. В приказной части было предписано именовать Хайкина впредь Зеликом Исааковичем и арестовать на 10 суток с содержанием на гауптвахте за обман партии и народа. Такие приказы нам зачитывали дюжинами каждую неделю. Шло разоблачение "подпольных" евреев - тех, что по документам числились русскими, украинцами, узбеками, якутами, японцами или малайцами. Всё это должно было ко дню "Х" выявить ясную картину, кто есть кто, чтобы ни один еврей не ускользнул.
Антисемитская клевета и самые нелепые выдумки - о еврейском народе и о каждом еврее в отдельности - считались тогда главным признаком лояльности и преданности "величайшему полководцу всех времён и народов, величайшему гению и корифею".
Офицерские курсы усовершенствования, где я работал, не были, конечно, исключением. Помимо официального антисемитизма сверху, каждый черносотенец изощрялся как только мог. Бредни о крови христианских младенцев для мацы, о заражении раком русских людей минскими евреями-зубными врачами, о самоубийстве знаменитого профессора медицины М.Н.Шапиро, жульнически ускользнувшего от справедливого гнева народа (он прожил после этого ещё 20 лет и умер под 90) - вот некоторые темы разговоров в наших преподавательских комнатах во время перерывов. Однажды пожилой полковник, фронтовой ветеран, украинец Медянник, человек честный и справедливый, сказал во время одного из таких разговоров, что ведь это сплошные бредни. Такие же разговоры он слышал в годы своего детства в Киеве, во время процесса Бейлиса. Конечно, он не отрицает вины врачей-убийц: об этом написано в газетах. Но не может же весь еврейский народ отвечать за нескольких преступников. А если вспомнить войну, - продолжал полковник Медянник, - евреи воевали храбро, среди них не было ни одного предателя, а вот среди русских, украинцев, белорусов - предателей было немало.
Никто ему не возразил. В преподавательской воцарилась тишина и царила до самого ухода офицеров на занятия. В этот же вечер нас, преподавателей, срочно собрали в клубе, и начальник политотдела полковник Т.А.Булгаков нас проинформировал, что коммунист Медянник освобождён от должности секретаря Парткомиссии курсов, выведен из состава этой комиссии, и вопрос о его дальнейшей судьбе будет решён в ближайшее время. Причиной всех этих кар, посыпавшихся на Медянника, полковник Булгаков назвал неправильное, антинаучное понимание ленинско-сталинской национальной политики дружбы народов и вредное, антипартийное разъяснение её массам. Конечно, Медянника ждала тяжкая участь. Но, к счастью, это происходило 3 марта 1953 года. Через два дня ушёл из жизни наш вождь и учитель, наступили новые времена, и дело полковника Медянника было предано забвению. И в наши дни, когда я встречаю этого честного старого солдата, мы вспоминаем это событие и говорим о многих подобных, творящихся сегодня.
Во времена хрущёвской оттепели острота еврейского вопроса слегка притупилась, евреи вздохнули свободнее. На эти годы приходится расцвет моей военной службы, мой наиболее творческий период.
Я был командиром механизированного батальона, а позднее - заместителем начальника штаба танковой дивизии. Считался образцовым офицером: успешно, даже блестяще, выполнял самые сложные задачи и поручения. За своё трудолюбие (приходилось зачастую работать сутками без отдыха, не зная выходных) и творческую инициативу (любое дело делал с большим увлечением) я пользовался большим уважением и любовью товарищей. Начальники меня ценили; при переводе на другую работу отпускали очень неохотно.
Командиром нашей танковой дивизии был генерал В.И. Сынгилин, человек с большим военным образованием; честный, но страшно боявшийся вышестоящего начальства. Однако уже много лет спустя после нашей совместной службы, когда меня начали преследовать за активную борьбу против антисемитизма, он, будучи минским облвоенкомом, ходил по различным партийным и государственным инстанциям и требовал, чтобы меня оставили в покое! Более того - свыше двух лет генерал В.И. Сынгилин оказывал сопротивление давлению КГБ и не соглашался писать ходатайство Председателю Совета Министров СССР о моём разжаловании в рядовые и лишении пенсии. Это с его стороны был очень смелый шаг, акт гражданского мужества.
В 1961 году меня перевели на работу в штаб округа. К этому времени я уже был известен в кругах руководства как талантливый штабной офицер и толковый организатор. Перевод в штаб округа для меня, еврея, даже в те довольно либеральные годы считался большим поощрением. В течение короткого времени я и в штабе округа стал ведущим офицером.
Помимо основной работы, немало моих статей по вопросам оперативного искусства и обучения войск было опубликовано в центральной и окружной военной печати. Написано мною и более десяти кандидатских диссертаций. Более десяти генералов стали с моей помощью кандидатами военных наук.
Как способного штабного офицера, сравнительно молодого по возрасту, меня назначили командиром образцового полка. Это был один из лучших полков в Советской Армии. Неоднократно я, во главе этого полка, открывал в Минске военные парады в дни государственных праздников. Служба моя была весьма почётной, но очень тяжёлой. Рабочий день мой продолжался по 15, а иногда и по 18 часов в сутки.
К этому времени, к 1964 году я достиг той вершины, которой мог тогда достичь офицер-еврей. Я был полковником, командиром одного из лучших полков Советской Армии, пользовался широкой известностью в войсках. Я точно не знаю, какие ограничения существуют для советских граждан в других отраслях деятельности, но офицерам-евреям с конца 40-х годов и поныне запрещено: служить в войсках за пределами СССР, бывать в заграничных командировках, быть назначенным на должность командира или начальника политотдела дивизии, учиться в академии Генерального штаба - и ряд других ограничений.
Когда мой сослуживец, командир танкового полка полковник Аркадий Иванович Гусаров, русский, был в 1967 году зачислен кандидатом в академию Генштаба, армейский отдел ГБ "разоблачил" его: Иван Гусаров - не родной, а приёмный отец Аркадия. Было установлено, что его настоящий отец - еврей, умерший, когда мальчику было 7 месяцев. Отдел ГБ не только не постеснялся нарушить советский закон, охраняющий тайну усыновления, но добился и строгого наказания Аркадия Гусарова "за обман партии и государства". Конечно, после разоблачения его неарийского происхождения полковник Гусаров в академию не попал. Двери этой академии плотно закрылись для евреев ещё в 40-е годы и, думаю, никогда больше не откроются. Не может быть присвоено еврею и звание генерала.
Правда, во времена хрущёвской "оттепели" один еврей - Кац - получил генеральское звание, но больше такой оплошности не будет. Думаю, что сегодня в Советской Армии служат не более двух-трёх генералов-евреев, получивших свои звания ещё в войну, на фронте, где таких генералов было не менее ста пятидесяти...
От всех этих невесёлых событий меня отвлекала большая работа, повседневные заботы о порученном деле, постоянная физическая и умственная нагрузка.
В результате нервного и физического перенапряжения в течение многих лет - 6 ноября 1966 года, после ночной генеральной репетиции октябрьского парада в Минске - со мной произошёл инфаркт миокарда.
Мне тогда было 42 года, врачи называли мой инфаркт "молодым". Он был средней тяжести, и перенёс я его сравнительно легко. Через 4 месяца я снова приступил к службе. Меня перевели на более спокойную работу - в отдел вневойсковой подготовки и военно-учебных заведений округа. Я там исполнял инспекторские функции. Правда, меня постоянно привлекали также к разработке и проведению войсковых учений и другим мероприятиям большого масштаба.
В 1967 году постановлением правительства была введена начальная военная подготовка школьников и учащихся других средних учебных заведений. Это совершенно новое дело в Белорусском военном округе пришлось организовывать мне. В передовой статье "Красной Звезды" - центрального органа Министерства обороны - отмечалось, что лучше всего организовано это дело в Белоруссии, благодаря моей творческой инициативе, настойчивости и глубокому знанию вопроса. Это был один из последних этапов моей работы - на закате военной службы.
Сохранился в памяти один незначительный эпизод моей военной службы, совпавший по времени с большим историческим событием мирового значения.
Шестидневная война на Ближнем Востоке застала меня в Борисове. Там группа офицеров штаба округа, в числе которых был и я, проводила тактическое учение с танковым полком: форсирование реки Березина по дну. Полковое учение мы начали 6 июня 1967 года и закончили в день, когда в руках Армии обороны Израиля находились весь Синай до Суэцкого канала, Иерусалим, Иудея, Самария и Голанские высоты. О ходе войны на Ближнем Востоке в первый день мы знали лишь по лживым арабским сводкам, которые публиковались в советских газетах, и по корреспонденциям не менее лживых советских спецкоров. Начиная со второго дня, мы - небольшая группа офицеров штаба округа - стали получать правдивую информацию о происходящем от начальника политотдела местной дивизии, который регулярно слушал "Голос Америки", "Би-би-си" и другие западные станции.
Трудно словами передать мою тревогу и переживания накануне и в первый день Шестидневной войны, а потом - огромную радость ошеломляющей победы еврейского народа над арабско-фашистскими агрессорами. Антисемиты были страшно удручены. Каких только небылиц они ни придумывали, чтобы принизить победу Израиля! Мол, воевали не евреи, а солдаты стран НАТО; план операции разрабатывали не израильские, а американские и английские офицеры; экипажи танков и самолётов состояли только из наёмников; египтяне, сирийцы и иорданцы по 12 часов в сутки молились прямо на поле боя, и их резали во время молитвы, как овец, и прочие несуразицы.
Закончилась Шестидневная война на Ближнем Востоке, и в тот же день, также успешно, закончилось форсирование Березины нашим танковым полком. Мы возвращались с учения домой, в Минск. В машине, кроме меня, было ещё два полковника из породы евреененавистников и один подполковник, работник разведуправления - объективный и приличный человек. Естественно, всю дорогу из Борисова в Минск шло обсуждение не нашего полкового учения, а Шестидневной войны.
Я в течение ряда лет слушал радио Израиля, западные радиостанции и чётко представлял себе военнополитическую обстановку на Ближнем Востоке. Мне с лёгкостью удалось развеять все бредни черносотенных полковников, а мои цифровые выкладки и данные о соотношении сил между арабами и евреями совершенно их ошеломили. Подполковник-разведчик не принимал активного участия в споре, но полностью подтвердил все приведенные мною данные, ссылаясь на официальные источники советской разведки. Растерянность после Шестидневной войны в черносотенных советских кругах была так велика, что о моих высказываниях не последовало доноса, а если он и был - то хода ему не дали.
Это было не первое моё выступление с критикой официальной политики руководящих кругов по еврейскому вопросу. За несколько лет до этого, в Гродно, я в присутствии большого числа старших офицеров резко критиковал дискриминацию советских евреев, осуществляемую по секретным инструкциям руководства. В подведомственной мне сфере я всегда самым решительным образом пресекал антисемитизм и другие формы расизма, но какой-то серьёзный вклад, действуя таким образом, я внести, естественно, не мог. Что касается национальной политики советской власти - в послевоенные 30 лет она выкристаллизовалась с полной определённостью. Это - воинствующая политика великодержавного русского правительства.
Первым и самым главным критерием при характеристике человека, при определении, куда его допустить и куда его не допустить, является его национально-расовое происхождение. Солью земли, вершиной пирамиды являются русские, или, как называли их до революции, великороссы. Это - товар высшего качества, люкс. Близко к ним и почти так же полноценны и полноправны украинцы и белорусы. Но и они зачастую вынуждены чувствовать свою не стопроцентную полноценность. Все остальные - народы Кавказа, Средней Азии, Волги, Прибалтики - каждый имеет своё строго определённое место в "нерушимой братской семье народов". Чем древнее народ, чем богаче его история и культура, его вклад в мировую цивилизацию - тем больше его не любит руководство и "старший брат, великий русский народ". К грузинам и армянам в центральной России относятся с неприязнью и враждебностью. Однако более нелюбимы армяне. Со снисходительной доброжелательностью относятся к якутам, эвенкам и другим малым народам Севера и Дальнего Востока, которых "старший брат облагодетельствовал" и поэтому чувствует гордое удовлетворение своим "благородством". В самом низу этой иерархической лестницы стоят евреи, ответственные за всё.
Этим я вовсе не хочу сказать, что большинство русских заражено духом шовинизма и антисемитизма, что русские в экономическом отношении пользуются какими-либо преимуществами. Это далеко не так. Русские люди в центральных областях России живут гораздо беднее, чем многие окраинные народы. Но ни одного русского человека, независимо от его личных достоинств и пороков, никогда в этой стране не оскорбляли и ни в чём не ограничивали из-за национального происхождения.
Я никогда не испытывал недобрых чувств к русскому народу - так же, как и ко всем другим народам планеты. Русский народ мне близок. Я родился и вырос на его земле, воспитывался на его культуре, в любви объяснялся, как об этом писал Юлиан Тувим, на русском языке. Я всегда помню, что русский народ дал не только аракчеевых, игнатьевых, пуришкевичей, марковых, ежовых, рюминых, тимашук и никулкиных. Из русского народа вышли декабристы, народовольцы, Горький, Короленко. Сегодня этот народ дал миру самого его благородного сына - Андрея Сахарова.
Я верю - придёт время, и русский народ осудит своих моральных отравителей, как это сделал немецкий народ после 1945 года. Я также твёрдо верю, что место каждого честного еврея - в строю своего народа, в борьбе за возрождение и укрепление своей древней родины. Каждый еврей сегодня - солдат чести.
Всё это я глубоко чувствовал, и всё это меня глубоко волновало все послевоенные годы.
25 ноября 1968 года произошёл второй сильный сердечный приступ, закончившийся обширным инфарктом миокарда. В результате этого инфаркта я стал нетрудоспособным человеком и уволился с военной службы. Все эти годы я тяжело болел, инфаркты следуют один за другим с неравными промежутками времени. Вместе с тем - это годы моей активной борьбы против антисемитизма, за честь и права еврейского народа.
После убийства в 1971 году в Минске профессора Михельсона - всемирно известного уролога - моя борьба против антисемитизма приняла систематический и организованный характер. Я начал писать письма-протесты в партийные и советские органы, в газеты и журналы. Ответом на это явилась кампания травли - вначале по партийной линии. В возрасте 20 лет, на фронте, я вступил в партию. Я верил тогда, да и годы спустя, в её идеалы. Лишь прожив целую жизнь, я понял, что всё, записанное в партийных документах, - сплошная ложь. Первичная парторганизация, состоявшая из отставных офицеров, - а подавляющее большинство отставных офицеров известны в Советском Союзе как реакционеры-сталинисты - приняла решение исключить меня из КПСС за антипартийную деятельность, возбудить ходатайство о лишении воинского звания полковника и пенсии, о предании суду за антисоветскую агитацию и пропаганду.
Полтора года шло разбирательство моего персонального дела в партийных инстанциях, и завершилось оно заседанием бюро ЦК Компартии Белоруссии - высшего органа республики - в октябре 1972 года. Встретившись лицом к лицу с партийными чиновниками всех рангов, вплоть до высших руководителей Белорусской республики, я окончательно лишился всех иллюзий. Эти волки в элегантных костюмах, пошитых в специальных ателье, окончательно раскрыли мне глаза. Я им всем, и руководителям республики в том числе, говорил правду, называл их собственными настоящими именами. Я неопровержимо доказал, что они на деле являются самыми обыкновенными фашистами.
В этот период сложилась наша боевая дружба с Наумом Альшанским, Львом Овсищером и некоторыми другими евреями Минска, смело и открыто вступившими в бой с фашизмом.
С 1 декабря 1972-го по 29 мая 1973 года КГБ в Минске фабриковал антиеврейское "Уголовное дело №97", обвиняемыми по которому были художник Кипнис и я. Об этом деле немало написано на Западе. В частности, в Нью-Йорке вышли документальная брошюра "Террор в Минске" (1973), книга Леонарда Шреттера "Последний исход", в которой 17-я глава посвящена борьбе минских евреев за свободу и делу №97 (1974), и ряд других изданий.
В мае 1973 года дело №97 было прекращено. Борьба против антисемитизма за честь и права еврейского народа продолжается. Одним из ярких моментов этой борьбы стал еврейский антифашистский митинг в районе бывшего гетто 9 мая 1975 года. Об этом митинге также опубликовано немало материалов на Западе.
Я считаю борьбу против антисемитизма за светлые идеалы нашего национального движения долгом перед памятью жертв нацизма, перед своими близкими, замученными в гетто, перед своим народом, перед самим собой.
P.S. Страницы 1-25 я написал в период с 26 февраля по 1 марта 1976 года. 1-го марта в результате очередного сердечного приступа случился новый инфаркт миокарда. В связи с этим, находясь в тяжёлом состоянии, я кратко, конспективно и отрывочно продиктовал последние несколько страниц своей жене.<...>. Я не уверен, будет ли интересно многим людям читать моё жизнеописание, не обольщаюсь я и в отношении мастерства изложения. Единственное, о чём я могу сказать с полной уверенностью, - во всём, написанном мною, нет ни одного слова неправды.
4 марта 1976 года, гор.Минск
Публикация Эрнста Левина
(перепечатка с машинописного оригинала)