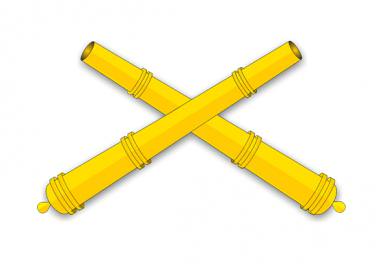Гринспон Марк Аврамович (Абрамович)
орден Красного Знамени, орден Отечественной Войны 1-й степени, орден Отечественной Войны 2-й степени, орден Красной Звезды, медаль "За оборону Ленинграда" и др.медали.
1941 - лейтенант
В 1943-44 старший лейтенант.
Капитан 2-го ранга.
1941-42 - во время обороны Ленинрада - начальник боепитания 14-го отделения Бронепоездов.
1943-44 - командир катера 519 ДСКа ОВР ТМОР КБФ
Из публикации сына Марка Аврамовича - Владимира Гринспона:
Отец мой, Марк Абрамович Гринспон, в июне 1941 года был выпущен из Севастопольского Военно- Морского училища прямо на фронт. Выпуск 41 года насчитывал более 3000 морских офицеров. Как подсчитали потом по материалам военных архивов, к концу войны в живых из них осталось только 312 человек.
----
А вот как описана служба Марка Гринспона, командира катера 519, в Наградном листе:
"В кампании 1943-44 г в период ледовой обстановки тов Гринспон, командуя катером, обеспечил безаварийные плавания, добился сколоченности л/с, благодаря чему все боевые задания выполнил успешно. При несении дозорной службы и при походах для\ встречи караванов тов. Гринспон добился отличного выполнения заданий несмотря на плохую погоду (шторм, пурга).
13-14 февраля при высадке десанта в район Усть-Нарвы тов Гринспон отлично подготовил материальную часть и л/с, благодаря чему десант его катер высадил первым и абсолютно без потерь.
После высадки десанта тов. Гринспон маневрировал у берега, подавляя огневые точки противника, чем способствовал продвижению десанта на берегу. Огнем его катера подавлено три огневых точки на берегу.
За мужество, отвагу, смелые решительные действия при высадке десанта на берег пр-ка тов. Гринспон достоин правительственной награды – ордена «Красного Знамени».
Марк Гринспон оставил воспоминания о годах службы. В основном военные страницы воспоминаний посвящены боевым друзьям, их подвигам, примерам удивительной стойкости. Так, в одном из очерков он рассказывает о друге, пережившем плен, заключение в Бухенвальде, но сумевшем организовать побег в конце войны.
Но многие страницы описывают военный быт, подробности использования боевой техники, фортификацию.
Суровая правда войны отразилась и в эпизоде, где в их боевую часть прибывает и заступает на тяжелую работу кочегара здоровенный матрос. Он рассказывает, как упросил отправить его из тылового подразделения на любой тяжелый участок передовой - так как не в силах больше был нести службу "выводящего" - выводить на расстрел моряков и офицеров, приговоренных к высшей мере наказания. Не в силах снять эту тяжесть даже в условиях боевой службы, кочегар показывает Марку фотографии, оставшиеся от расстрелянных матросов.
Ниже помещаем несколько отрывков из воспоминаний Марка Авраамовича Гринспона. В этой главе рассказывается, как началась война для выпускника военно-морского училища.
Александр Энгельс
-------------------------------------------------------
МАРК ГРИНСПОН
"Репортаж из военной молодости"
Глава I. КАМУФЛЯЖ
“Камуфляж” — это метод маскировки, при котором маскировка объекта достигается путем искажения окраски или очертаний предмета. С камуфляжем, как таковым, мне приходилось иметь дело в годы моей военной службы. Впервые я услышал о нем в военно-морском училище, в котором я учился в тридцатых годах. Причем, поведали нам о камуфляже не в курсе тактики, в разделе “Боевое обеспечение”, каковую главу мы должны были проходить, если мне память не изменяет, на третьем курсе. Мы же о камуфляже услышали уже на первом курсе, на лекции по морской практике.
… Самому мне с этим делом пришлось столкнуться в сорок первом году, двадцать второго июня. Да, в день начала войны. Я проходил предвыпускную стажировку так называемым “корабельным курсантом” в чине мичмана на линейном корабле “Парижская коммуна”.
Это был большой, тяжелый корабль с четырьмя трехорудийными башнями главного — двенадцатидюймового калибра. Кроме этих громадных пушек, снаряд которых весил полтонны, были еще орудия противоминного и зенитного дивизионов. Башни главного калибра располагались на верхней палубе в линию, по диаметральной плоскости (ось симметрии палубы). Кроме них над палубой возвышались две трубы и две мачты. Все каюты, кубрики и служебные помещения были упрятаны под палубу так, что корабль казался странно плоским, приземистым. Правда, во время модернизации на мачтах были установлены дополнительные мостики, рубки, командно-дальномерные посты, антенны. Из-за этих “пристроек” пришлось изменить форму передней трубы: для того, чтобы она могла обогнуть новые надстройки, трубе придали два крутых изгиба — под прямым углом назад и снова под прямым углом — вверх, “штыком”. Ни до ни после нигде в мире я нс встречал подобной формы у судовой трубы. На Приморском бульваре севастопольские девчонки острили: “Отчего это у вашего корабля одна труба кривая?” На что моряк-линкоровец невозмутимо отвечал: “ Вторую согнуть еще не успели. Вот выберем время, согнем и ее!”
Двадцать первого июня 1941 года эскадра Черноморского флота возвращалась с больших учений. …..Была суббота 21 июня, наступило летнее солнцестояние. Накануне вечером был получен сигнал “отбой учений” и эскадра возвратилась в Севастополь. Команда занялась мирными делами: стирали, гладили форму, сушили отсыревшее в походе имущество. Многие записывались в увольнение на берег. Я решил субботу провести на корабле, а на берегу побывать в воскресенье. У многих были большие планы на это воскресенье...
В одиннадцать вечера над заполненными флотом бухтами взлетели одна за другой десять зеленых ракет. Одновременно раскатились десять пушечных выстрелов. Сигнал экстренного сбора! В городе радио повторяло приказ: военнослужащим возвратиться на корабли и в части.
До начала войны оставалось четыре часа. Когда вместительные линкоровские баркасы и катера доставили на борт отозванный с берега экипаж, была сыграна учебная тревога и проверен на боевых постах личный состав. После отбоя тревоги мы улеглись спать, но не надолго. В час ночи снова прозвучал сигнал тревоги. На этот раз из репродукторов звучали слова “боевая тревога”. Я обратил внимание товарищей, одевавшихся рядом: — Ребята, сигнал-то “боевая”!
— А, ерунда! Вахтенная служба со сна перепутала...
Мое место по тревоге было в самых низах, в носовом гирокомпасном посту. Я был дублером, прямых обязанностей по тревоге не имел, и командир поста отпустил меня “на разведку”. Не помню уже, какой тайной лазейкой выбрался я наверх, в район первой башни. Затем перебрался на флагманский мостик, где оставался до отбоя тревоги. Первая весть, которую я получил от артиллеристов, была о том, что на все орудия по тревоге поданы боевые снаряды. Эта информация, как говорится, в комментариях нс нуждалась. Тревога сыграна для боевых надобностей!
Здесь уместно возвратиться к февральским событиям. Визит Самойлова, изменение нашего учебного плана, ускорение выпуска — это были меры стратегического плана. А то, что флот встретил самолеты противника, стоя по боевой тревоге, у орудий, заряженных боевыми снарядами, — это были меры, так сказать, оперативно-тактического плана, но исходившие так же, как и первые, из проникновения в замысел врага. Сопоставляя и передумывая все это, я уже в первые дни войны сделал вывод: наше руководство знало о предстоящем нападении агрессора и в стратегическом масштабе ("два-три месяца"), и в тактическом (тревога-то боевая! За четыре часа до нападения). Однако, исходя из военно-стратегической ситуации, главным фактом которой являлось капиталистическое окружение, в качестве главной задачи было определено условие: ни в коем случае не допустить выступления капиталистических государств против нас единым фронтом. В тогдашних условиях у нас нехватило бы ни сил, ни ресурсов для круговой обороны. Это знал даже я. салага, фендрик. Нетрудно представить, до какой степени эта идея владела Сталиным, возведя принцип осторожности до степени идеи-фикс. Что этот расчет был справедливым, показало сложившееся в ходе войны распределение сил. Правильность этих расчетов была подтверждена обнародованными после войны документами: существовали реальные предпосылки на примирение и объединение капиталистических держав в случае военного перевеса Советского Союза в борьбе с фашистской Германией.
Я был маленьким человеком на войне. Мой кругозор нс простирался дальше поля местной карты двадцатипятитысячного масштаба — масштаба тактического, и не более. Но я пытался делать для себя выводы из известных мне фактов. Скажем заранее — далеко не всегда эти выводы впоследствии оправдывались. Приходилось вносить корректуры в свои построения.
Итак, во втором часу самой короткой ночи года флот стоял по боевой готовности номер один. Об этом лучше всего сказано в воспоминаниях нашего наркома Николая Герасимовича Кузнецова. Кстати, то, что флот вопреки указаниям Сталина занял оборонительную позицию, нужно полностью отнести к строптивому характеру нашего наркома. Когда время перевалило на четвертый час, сразу все, бывшие на открытых постах, уловили шум моторов в ночном небе. Это был особый, ранее никогда нами не слыханный, модулированный гул, от низкого рева до надрывного воя. Казалось, в непроглядном предрассветном небе тащат непосильную ношу, задыхаются и стонут какие-то колоссальные шмели. Из всех товарищей, бывших тогда со мной, почти нет никого, кто бы назвал одинаковое время описываемых здесь событий. Называют время начала налета от часа тридцати до трех тридцати. Большинство полагает: в три часа двенадцать минут Севастополь открыл огонь. Мне пришлось пройти всю войну до конца. Я был в оборонявшемся Ленинграде, видел штурм Кенигсберга, но та-кого извержения зенитного огня, какой взвился над севастопольскими бухтами в ночь фашистского нападения, мне больше никогда и нигде видеть не довелось. Это действительно был вулкан огня. Стреляли корабли, форты, береговые батареи. Били не только зенитки — сквозь шкварчанье и потрескивание их небесного костра выделялось ряванье стопятидесятимиллиметровых. Воздух был нашпигован осколками. Они звякали по броне и дождем сыпались в воду. В лучах прожекторов возникали облака разрывов — белые-шрапнельные и черные от бризантных гранат. Потом на перекрестье двух прожекторных лучей возник самолет. Он был двухмоторный, коренастый, как молодой бык, летел на не особенно большой высоте. Не успели разрывы сосредоточиться, сгуститься вокруг самолета, как от него отделился парашют.
— Парашютисты! — вырвалось у меня, да и многих других. Мы еще не умели оценить размеры купола, особенности полета, обстановку, в которой сбрасываются “парашютисты”. Парашют выскользнул из лучей прожекторов и окунулся в темноту. Через несколько минут, там, куда он опустился, где-то в районе Артиллерийской бухты, встала и закачалась огненная башня и сквозь треск зениток ухнул, надавил на барабанные перепонки, долгий гул взрыва. Выяснилось: неизвестный пока для нас противник ставит мины, сбрасывает торпеды. Они-то и спускались с парашютами. Такую же ошибку, как и мы, но с более тяжелыми последствиями, совершили бойцы и гражданские в районе падения мины. Приняв ее за парашютиста, они подбежали к месту приземления как-раз к моменту взрыва. Упавшие же, как было задумано, в воду, мины и торпеды начинали действовать по заданию — искать или ожидать свою жертву. Те же, которые приземлялись на берегу, взрывались. Так с первых минут войны пришлось нам постигать боевой опыт. И часто ценой крови.
Не успел отгрохотать взрыв мины и улечься пламя взрыва, как мерцающее взрывами небо прочертил сбитый самолет. Знаков мы не распознали и до утра спорили, чей? Только в десять утра плавкран приподнял над водой сбитый самолет и стали видны германские кресты на крыльях.
Налет продолжался, примерно, полчаса. После отбоя воздушной тревоги, все сверхштатные — сиречь практиканты — были списаны в училище. Помню, шли мы по улице Фрунзе (ныне проспект Нахимова) и глазели на выставленные буквально на улицу товары в магазинах. Ибо стекла витрин вылетели без остатка. С этого дня жители мест, до которых доставала война, стали оклеивать оконные стекла полосками бумаги.
…….. А через месяц произошло второе мое столкновение с проблемой камуфляжа. За этот месяц меня и еще восемнадцать новоиспеченных лейтенантов флота перебросили в Ленинград.
Дивизион Особого назначения оказался частью береговой артиллерии. По всему Пулковскому валу — от Глиняной горы на западном краю до окраины деревни Большое Кузьмино на восточном протянулась цепочка стационарных морских артустановок статридцатимил- лиметрового калибра. Орудия были установлены на вкопанных в землю трех настилах шпал, перекрещенных слой поперек слоя. Эта семикилометровая цепочка состояла из расположенных попарно с неровными интервалами орудий. Расстояние между огневыми точками в паре было около трехсот метров, а между парами — порядка двух километров. Но что меня поразило с первого взгляда на позицию батареи — это то, что орудия были установлены не на обратном скате высоты, как положено располагать дальнобойные стационарные установки, а на лобовом, то-есть обращенном к противнику скате. Моего запаса знаний по тактике береговой артиллерии хватало на то, чтобы знать, что так не делается, но в то же время я не настолько был уверен в своих познаниях, чтобы спорить и пытаться обратить чье-то внимание на странную позицию, избранную для наших пушек. То, что я испытывал, можно было назвать безмолвным удивлением. Впрочем, удивлялся я правильно. Прошло совсем немного времени и все мои опасения оправдывались. Противник подобрался к самой подошве высоты, на которую изо дня в день бросался в ожесточенные атаки. Наши дальнобойные артсистемы, неподвижные и хорошо заметные по пламени своих выстрелов, оказались превосходной мишенью для мелкокалиберной артиллерии, минометов и стрелкового оружия противника. Немцы вели огонь из густого кустарника и других укрытий, расположенных у самой подошвы Пулковской высоты. Наши массивные “дуры”, как всердцах называли их краснофлотцы, лежали воистину как на ладони перед неприятельскими стрелками.
Буквально накануне первого боевого сопротивления с надвигающимся на Ленинград противником, мое недоумение было удовлетворено. У самого шоссе, проходившего по гребню высоты, и вливавшегося за деревней Большое Кузьмино в Пушкинский тракт, стояла зенитная батарея. Восьмидесятипятимиллимстровки, незадолго до войны принятые на вооружение, били резко, оглушительно и... безрезультатно. Помню, в тот день, когда немцы разбомбили Бадаевские склады и даже Пулково было окутано жирным, удушливым дымом, эта батарея, и другая, из-за шоссе, стреляли несколько часов. Зенитчики работали, как бешеные, до крови из ушей и темноты в глазах. Но... ни одного попадания. Юнкерсы и Хенкели пролетали к городу стройными эскадрильями на средней высоте, а обратно проскакивали поодиночке на бреющем полете. После налета фрицы устроили еще и издевательский аттракцион. Прилетел и сделал два круга над огневыми позициями зенитчиков мессершмидт с “колбасой” на буксире. Дескать, поупражняйтесь по конусу сначала! Злые до слез артиллеристы не глядели друг другу в глаза. Комбат Попов ходил небритый: “Пока не собью...” Впрочем, первого сентября, если не ошибаюсь, сбили сразу два. И пошло... До чего тяжело приходил боевой опыт!
Так вот, накануне своего первого боя я был в гостях у зенитчиков. Начбой — начальник боепитания, сиречь, — фамилию уже не помню, а в лицо узнал бы хоть сейчас, — с бородкой клинышком, под Брусилова, так вот он был знаменитый доставала и натуральный кофе на батарее не переводился. Часовой у шоссе заорал: “Ворошилов! К нам...” Попов схватился за небритую щеку. Потом махнул рукой и побежал отдавать рапорт.
В открытой машине рядом с шофером сидел маршал. На заднем сиденье находились незнакомый мне генерал и адъютант. Рядом с машиной — два мотоциклиста — охрана.
— А здесь что? — обратился Климент Ефремович к подбежавшим бойцам.
— Зенитчики, товарищ маршал!
— A-а.. Я думал, что-нибудь хорошее, — пошутил командующий фронтом.
— Ну, давай зайдем. Искоса посмотрел на бороду отдававшего рапорт Попова и повернулся в мою сторону:
— Моряки что здесь делают?
— Артиллеристы дивизиона особого назначения штаба Ленморо- бороны, товарищ маршал Советского Союза! — доложил я и пожал протянутую руку. Рукопожатие было короткое, энергичное. Движения Ворошилова были легки, точны. На него глазели всей, видно было, с удовольствием. Обветренное лицо выглядело свежим, несмотря на усталость в глазах. Голос при повышении тона звенел.
Отдельные литераторы, создавая образ Ворошилова того периода, когда он командовал Ленинградским фронтом, рисовали отчаявшегося, усталого, растерянного человека. Не знаю, где и когда они его видели... Я встречался с маршалом четырежды и каждый раз на меня и других он производил впечатление вполне целеустремленного, жизнерадостного, отважного и лихого своей особой кавалерийской лихостью, человека. К нему тотчас возникало чувство безоговорочного доверия. Даже когда он, не стесняясь в выражениях, разносил кого- нибудь из армейских начальников.
--------------
Полный текст книги "Репортаж из военной молодости" доступен по ссылке:
Часть 1 https://proza.ru/2019/10/15/931
Часть 2 https://www.proza.ru/2019/10/21/1437