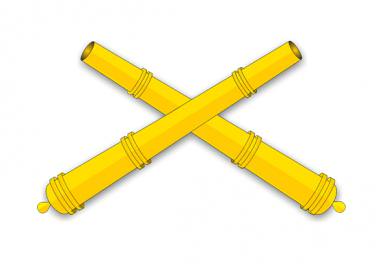Блок Владимир Леонидович
орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
красноармеец
младший лейтенант
лейтенант
старший лейтенант
капитан
стрелок 3-й дивизии народного ополчения 1941
стрелок 67-й дивизии 7-й армии
офицер разведотдела 37-го Гвардейского воздушно-десантного корпуса
командир взвода роты автоматчиков 1219-го стрелкового полка
заместителем командира роты автоматчиков 1219-го полка 367-й стрелковой дивизии
Владимир Леонидович Блок родился в 1924 г. в Ленинграде. Еврей. В 1941 г. ушел на фронт добровольцем. Воевал на Карельском фронте. После окончания офицерской школы воевал в 37-м воздушно-десантном корпусе. Участник Свирского прорыва, боев в Норвегии, освобождал завод по производству тяжелой воды. Трижды ранен. Награжден двенадцатью боевыми орденами и медалями. После войны работал автомобильным инструктором в 4-м таксомоторном парке Ленинграда.
Сын «врага народа». Фронтовая судьба
Ночью 5 сентября 1937 года мою мать, Розалию Моисеевну Блок-Баерс, увезли в Бутырскую тюрьму, а через час после ее ареста те же энкаведисты приехали за мной. Мне еще не исполнилось двенадцати лет, я плакал, кричал, а они говорили с иезуитскими улыбочками: «Сейчас поедем к маме».
К маме мы не поехали. Меня отвезли в Даниловский детский приемник.
Это была пересыльная тюрьма для малолетних преступников, размещенная в старинном монастыре. В камере, куда меня втолкнули, я увидел хорошо одетых детей примерно моего возраста, многие из них плакали, не понимая, где они находятся и для чего их сюда привезли.
Вскоре пришел начальник детприемника, собрал нас и объявил:
— Вы все — дети врагов народа. Вы поедете в детские дома, будете там учиться и работать на благо нашей великой страны и отца народов товарища Сталина.
Через два месяца меня разбудили ночью и отвели в кабинет энкаведиста, который предложил мне письменно отказаться от родителей. Я стал кричать, что ничего писать не буду, и снова просил отвезти меня к маме. Позже мне рассказали, что такое предложение делалось многим детям, и кое-кто согласился.
Началась «одиссея» моего сталинского перевоспитания. С группой детей репрессированных родителей меня отправили в Ростов-Ярославский. Детский дом, в который нас привезли, тоже располагался в огромном монастыре. Нас стали водить на занятия, но больше заставляли работать в мастерских. Каждый день нам напоминали, что мы должны, в отличие от своих родителей, стать достойными строителями социализма. Кормили нас неплохо. Месяца через три мне все это надоело, и я стал готовить побег: организовал группу из детей военных и крупных партийных работников.
Недели две мы запасались сухарями и сахаром. В морозную ночь, спустившись по водосточной трубе со второго этажа, мы добежали до вокзала, забрались в теплушку и благополучно доехали до Москвы.
В Москве я стал обходить знакомых отца и матери, но все они были так напуганы арестами, что старались поскорее от меня избавиться: сунут в руку рубль или носовой платок — и прощай! Я очутился на улице. Жить было негде, есть нечего и, осознав безвыходность своего положения, я явился в милицию.
В отделении меня внимательно выслушали и отправили все в тот же Даниловский детприемник, написав в сопроводительном документе: «Склонен к побегу». Там меня сфотографировали анфас и в профиль, сняли отпечатки пальцев и посадили в камеру с малолетними уголовниками. Кое-какой тюремный опыт у меня был, блатной жаргон я знал и в обиду себя не давал, тем более что сокамерники узнали о моем побеге и это создало мне некоторый авторитет.
Через несколько дней меня вызвал оперуполномоченный («кум»). Спросив меня, кто в детском доме из начальства помог мне бежать и услышав отрицательный ответ, он сказал: «Теперь ты поедешь подальше. И советую больше не убегать, иначе пойдешь в лагерь».
После этого разговора меня отправили в Горький, в детский дом. Там я сразу же стал готовиться к побегу: организовал группу из трех человек (среди них была одна девочка). Мы дали клятву: не выдавать друг друга, что бы с нами ни случилось, и я предупредил их, чтобы ни за что не ходили в милицию, а искали своих родственников.
На ночном трамвае мы доехали до Сормова, а оттуда пешком дошли до вокзала. Приехав в Москву, разошлись. Украв кусок хлеба в привокзальной столовой, я забрался на багажную полку в поезде, отправлявшемся в Ленинград, и заснул. Была осень 1938 года. О судьбе матери и отца я по-прежнему ничего не знал.
В начале января 1937 года мой отец, Леонид Абрамович Блок, заместитель начальника отдела печати Наркомата внешней торговли, был арестован на улице, по дороге на работу. Обвинение, как я узнал спустя много лет, было самое тяжкое: КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность и работа на иностранные разведки). В то время даже кратковременная командировка за границу давала повод для обвинения в шпионаже без всяких доказательств, а отец прожил в США почти 12 лет: его родители эмигрировали в Америку в 1910 году, когда ему было пятнадцать.
В Нью-Йорке он довольно быстро овладел английским, учился, освоил несколько рабочих профессий, путешествовал по стране. В Америке он и познакомился со своей будущей женой Розой Баерс, бывал у нее в гостях на 15-й стрит в Манхэттене. Ко времени отъезда мамы в Советскую Россию в составе самозванной миссии Л. К. Мартенса в 1921 году отец уже состоял в Американской социалистической партии, а через год последовал за мамой.
В Москве отец вступил в Российскую коммунистическую партию, женился на маме и увез ее в Петроград. Отличное знание английского (что в те времена было редкостью), незаурядные литературные способности и, конечно, красная книжка члена РКП(б) обеспечили ему успешную карьеру: заместитель полпреда в Англии по печати, начальник отдела в Главном концессионном комитете, редактор журнала «Интурист»...
Роковую роль в его судьбе сыграли встречи по работе с Л. Д. Троцким, который был в 1925—26 годах председателем Главконцесскома, и отказ проголосовать за исключение Троцкого из партии.
На допросах в Бутырской тюрьме отец, несмотря на пытки бессонницей и избиения, виновным себя ни в чем не признал, что в те времена было большой редкостью, и получил по приговору «тройки» не расстрел, а 10 лет спецлагерей. Его отправили в поселок Норильск, где он работал в угольной шахте вместе с другими политзаключенными и уголовниками.
Мать к тому времени, когда я сбежал из детского дома в Горьком, уже десять месяцев находилась в женском лагере для «жен врагов народа» под Томском. Ей по той же, что и отцу, 58-й статье дали «всего» пять лет лагерей.
В Ленинграде я пришел к моему деду по матери Моисею Абрамовичу Шинкареву. Он жил в восьмиметровой комнате в большой коммунальной квартире на улице Рылеева и моему появлению обрадовался. Был он не робкого десятка (мама рассказывала, как в 1905 году он спас ее, сестер и брата от разъяренных погромщиков), оформил надо мной опекунство, а затем прописал к себе. Я поступил в пятый класс 4-й школы, где, кроме меня, детей «врагов народа» не было, и постепенно почти перестал бояться, что НКВД снова до меня доберется.
В 1939 году дед умер, и я остался один. Дальние ленинградские родственники, напуганные арестом отца, так же, как и московские знакомые, отказались взять надо мной опекунство. Это сделал завуч моей школы Алексей Петрович Имшенник. Он поддерживал меня материально и морально (после войны я так и не смог его разыскать). Мне помогали также родители моего соученика Гарика Струнского и дальние ленинградские родственники. Так я жил до июня 1941 года.
Мне в том году исполнилось 17 лет, я закончил 7 классов и устроился на работу матросом Балттехфлота. 24 июня я стоял в очереди у дверей военкомата Дзержинского района под плакатом «Родина-мать зовет!» вместе с такими же добровольцами. Все мы, насмотревшись патриотических фильмов, рвались на фронт и собирались воевать только на территории противника.
Парень я был здоровый, рослый, и мне, хоть и с большим трудом, все же удалось уговорить военкома. Вначале нас обучали стрельбе по мишеням и штыковому бою. Основным оружием были винтовки образца 1891/1930 года, станковые пулеметы «максим», ручные гранаты РГД и Ф-1 и бутылки с горючей смесью.
В конце июля я записался в 3-ю дивизию народного ополчения. Первые бои мы приняли под Лугой. С винтовкой, двумя гранатами и саперной лопаткой я ходил в атаки, в разведку, бывал в рукопашных схватках (тут лопатка использовалась в качестве оружия). Легко раненный в ногу, я попал в медсанбат, потом меня вместе с немногими другими уцелевшими ополченцами увезли на переформирование в Ленинград. Огромные потери рассеяли все наши надежды на скорую победу.
В конце августа 1941 года райвоенкомат направил меня в Череповецкое пехотное училище. Вместе со мной в училище оказался мой одноклассник Сима Гдалевич (из четырех евреев нашего класса уцелел один я: погиб Сима, погиб при прорыве блокады Гарик Струнский, погиб Исаак Фридман).
В училище готовили серьезно: форсированные марши по 25-30 километров шагом и бегом, часто в противогазах, верховая езда, боевые стрельбы, овладение приемами рукопашного боя.
Месяца через два бдительные тыловые особисты «вычислили» меня и с группой таких же «неблагонадежных» курсантов отправили на фронт, не дав закончить училище.
Сначала нас привезли в Вологду, в маршевый полк, а потом, переодев в зимнее обмундирование — на Карельский фронт, в Лодейное Поле.
Я попал в 67-ю стрелковую дивизию 7-й армии, сорвавшей попытку финнов замкнуть вокруг Ленинграда второе кольцо блокады. Мы держали оборону по берегу Свири. Бои шли местного значения: ежедневные перестрелки и рейды разведчиков. Довелось и мне несколько раз ходить за «языками» в группах захвата, служил связистом, командовал минометным расчетом.
В конце декабря 1941 года меня скрутил острый приступ аппендицита. Меня спасла капитан медицинской службы Слава Израилевна Перышкина. После войны я долго разыскивал эту прекрасную женщину, вернувшую меня в строй, но, к сожалению, не нашел.
Однажды зимой мы получили приказ взять «языка» — офицера или фельдфебеля. Это было очень сложно: финны умело маскировались в лесу, снайперски стреляли, прицельно метали ножи. Вместе с нашей группой захвата на противоположный берег Свири переправились саперы. Они проделали проходы в проволочных заграждениях и на минном поле. На этот раз нам повезло: один из наших ребят бесшумно снял часового, и после недолгой борьбы мы захватили финского капрала. К себе тащили его по очереди. Началась погоня, отстреливаясь, мы уходили от финнов, когда ранило одного из разведчиков — Неймана. Я уходил последним и, оглянувшись, увидел, как он, окруженный финнами, швырнул себе под ноги гранату. Ему было всего 18 лет.
В октябре 1943 года мой командир майор Курчатов, оценив, очевидно, не мою биографию, а боевые качества, направил меня на армейские офицерские курсы Карельского фронта. Успешно их закончив в июне 1944 года, я получил звание лейтенанта и назначение на должность офицера разведотдела 37-го Гвардейского воздушно-десантного корпуса, который прибыл на Свирь для прорыва фронта противника.
22 июня 1944 года финны открыли ураганный огонь по нашим заранее пристрелянным позициям. Потери были ужасны: в траншеях буквально рядами лежали убитые и раненые. Ответный шквальный огонь из орудий и реактивных минометов с нашей стороны буквально сметал укрепления и живую силу на другом берегу Свири. Когда через три часа обстрел закончился, казалось, что все живое на том берегу уничтожено. После высадки десанта из тринадцати добровольцев (все они выжили и получили звание Героя Советского Союза) началась настоящая переправа. На том берегу наши ударные части медленно продвигались по карельским лесам и болотам, встречая яростное сопротивление финнов.
В одну из коротких передышек мне снова повезло. Сидевший рядом солдат попросил меня немного подвинуться, прилег на траву и... подорвался на пехотной мине.
А через два часа в перестрелке я получил тяжелое пулевое ранение в правую руку. С поля боя меня вынесли солдаты взвода разведки, которым я командовал. В медсанбате нас, раненых, скопилось человек двадцать. Мне сделали перевязку, и я, единственный офицер, повел группу в тыл. Рукав гимнастерки у меня был отрезан, галифе в крови.
В полевых госпиталях в Олонце, Медвежьегорске и других я не расставался с пистолетом — это производило впечатление на врачей и сохранило мне руку. Наконец в госпитале Тихвина нашелся хирург, который, применив специальное лечение, спас мне руку и вернул меня в строй.
В конце сентября 1944 года меня направили в Мурманск, я был назначен заместителем командира роты автоматчиков 1219-го полка 367-й стрелковой дивизии.
В октябре началось наше наступление в Заполярье — один из «десяти сталинских ударов». В условиях полярной ночи мы медленно продвигались по сопкам и болотам, ведя бои с отборными эсэсовскими частями — егерями генерала Дитла из дивизии «Эдельвейс» и власовцами — эти, как правило, в плен не сдавались. «Долина смерти» (западнее Мурманска), «Чертов перевал», Западная Лица, Большой и Малый Кариквайш, река Титовка — вот места этого наступления, жестоких боев, откуда многие не вернулись.
В 50 километрах от норвежской границы наша рота выполнила специальное задание командования — вывела из строя немецкий завод тяжелой воды. Обезвредив и частично уничтожив охрану, мы освободили советских военнопленных, работавших на заводе, и взорвали основное технологическое оборудование.
Во время штурма города Никеля, в который моя рота вошла одной из первых, немецкий ефрейтор ударил меня ножом в голову и тут же был убит бежавшим вслед за мной солдатом. Неделю я пролежал в медсанбате. За взятие Никеля всем солдатам и офицерам нашей дивизии были вручены именные листы с благодарностью Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, датированные 23 октября 1944 года.
Война близилась к концу. Я был трижды ранен и десять раз награжден (ордена Красной Звезды и Отечественной войны I степени и восемь медалей).
На фронте я часто встречал евреев. Не припомню, чтобы кто-нибудь из них перебежал на сторону врага (финны евреев-военнопленных не уничтожали). Во время войны мне не приходилось слышать, что евреи «сражались за Ташкент». Зато после войны я это слышал часто и всегда от тех, кто сам не нюхал пороха. Я не переношу антисемитов и иногда, когда их высказывания касались лично меня, пускал в ход кулаки, хотя это, конечно, не метод лечения, да и сама эта болезнь, к сожалению, полностью не излечима.
Летом 1944 года, когда я лежал в госпитале в Тихвине, мне наконец сообщили, где находится моя мать: в городе Чарджоу Туркменской ССР. Первое письмо ей написала под мою диктовку медицинская сестра. Мать ответила мне, что свой срок отбыла в лагере под Томском полностью, в 1942 году была освобождена, а в Чарджоу приехала по приглашению своей солагерницы. Теперь письма матери изредка доходили до меня в госпитале и на фронте, и я мечтал о том дне, когда ее увижу. Ждать мне пришлось два года.
Летом 1946 года я получил спецзадание: доставить около 200 солдат-чеченцев, ингушей и крымских татар из Петрозаводска в Ташкент: они подлежали высылке по сталинскому указу, путь на родину был им закрыт. Солдат разместили в трех теплушках, а я, к тому времени капитан, расположился в штабном вагоне с ординарцем и отделением автоматчиков. По дороге я на свой страх и риск отпустил пятнадцать солдат.
Закончив дела в Ташкенте, я помчался к матери в Чарджоу и, едва придя в себя от радостной встречи, стал торопить ее собираться в Ленинград, ведь меня уже демобилизовали. Девять лет страданий и разлуки, конечно, отразились на матери, но я с радостью убедился, что она сохранила ясный, живой ум, душевную теплоту, открытость и доброжелательность к людям.
В Ленинграде мы узнали наконец, что отец уже девятый год находится в лагере в Норильске, работает в шахте. Каторжный труд, свирепые морозы, доходящие до 45°, голодный паек и зверское обращение охраны сводили в могилу десятки тысяч людей, на чьих костях и был построен Норильск. Отец, от природы крепкий, не только все выдержал, но даже обучал товарищей по заключению американскому боксу и приемам борьбы. Уголовники, которых лагерное начальство натравливало на политических, побаивались его крепких кулаков.
В 1947 году срок отца закончился, но он остался жить в Норильске на спецпоселении, преподавал английский язык в горном техникуме. Только однажды, в конце 1947 года, он нелегально приехал на месяц в Ленинград с поддельным командировочным удостоверением, рассказал нам об ужасных одиннадцати годах после ареста. Сталинская каторга не сломила его, он все еще надеялся на счастливый поворот в судьбе. Было ему тогда 52 года, а жить оставалось совсем недолго: он умер в Норильске от инфаркта миокарда в 1948 году.
Я живу со старушкой-матерью в Петербурге. Здесь я родился, здесь нашел убежище от воспитателей детей «врагов народа», этот город, не жалея жизни, защищал от смертельного врага. Дают о себе знать старые раны. В 1990 году мне сделали (под мою ответственность) тяжелую операцию. Через сорок шесть лет отозвался удар эсэсовского кинжала — я стал инвалидом. Фашизм отзывается сегодня не только старыми ранами, но и старыми идеями, превращая людей в нравственных инвалидов.
Неужели некоторые из моих соотечественников не понимают, что фашизм — это ненависть не только к евреям, но и ко всем свободным людям, не желающим становиться перед ним на колени; если бы он победил полвека назад, евреев бы уничтожили, но и русские попали бы еще в более страшное рабство, чем при сталинском тоталитаризме.
Я убежден, что у большинства хватит здравого смысла, чтобы отвергнуть идеи человеконенавистничества. Не напрасно в битвах с фашизмом мы понесли огромные жертвы. Мы отстояли свое право на жизнь, свободу и человеческое достоинство.